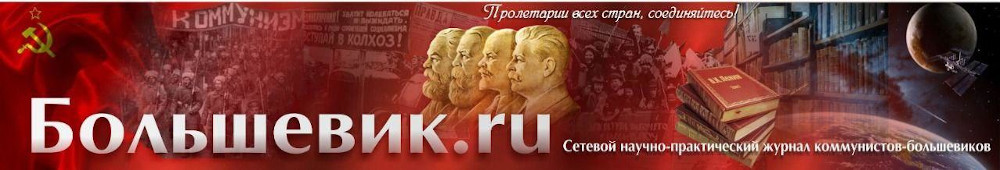Над написанием данного материала я думал долго, изменял не только формат, но и замысел статьи. Была мысль взяться за объёмный поочерёдный разбор всех произведений автора, создать эдакий «Анти-Фромм». Но, изучая его работы, переведённые на русский язык, и убеждаясь, что это чтиво не заслуживает серьёзного внимания, я всё чаще вспоминал цитату Энгельса: «А плод этот был такого свойства, что, отведав его, пришлось поневоле съесть его целиком. К тому же он был не только очень кислый, но и изрядной величины».
Открыв труды «самого великого философа ХХ века» (по мнению издательства АСТ), вы не найдёте не только последовательной марксистской позиции, но и последовательной, чётко сформулированной мысли вообще. Чем дальше, тем явственнее передо мной представал образ наивного скудоумного дедушки, щедро рассыпающего пустые «премудрости». Осилив Фромма в значительной мере, я решил, что целесообразнее будет сэкономить собственные силы и время читателей, ограничившись лишь небольшой статьёй.
1.Политическая экономия и классовая борьба
Согласно марксистской теории, классовое положение человека определяется его отношением к собственности на средства производства. Вебер в своё время пытался вывести другие критерии классовой принадлежности и критиковать Маркса за «однобокость», однако, не смог выдавить из себя ничего, кроме самых банальных производных от отношений собственности: престиж, финансовое благосостояние и т.д. В ту же сторону идёт Фромм. Он описывает образ типичного мелкого буржуа и, выцепив его в эпоху раннего капитализма, провозглашает средним сословием. В мировой историографии используется схожий термин «третье сословие», под которым подразумеваются мелкие буржуа, крестьяне и городская беднота, словом, все те, кто не принадлежал ни к духовенству, ни к аристократии. Но в чём же заключается его «среднесть»? Данное сословие, в каком угодно смысле, занимало более низкое положение по отношению к двум другим, так что окрестить его «средним» ошибочно. Но лидер Франкфуртской школы именно его наделяет революционной общественно-исторической функцией (хорошо, с этим мы условно согласимся), а после, в эпоху развитого капитализма, словно по волшебству, он превращает его в «средний класс» и делает оплотом реакции. Не будем затрагивать вопрос выведения категории «среднего класса», вся ошибочность такого теоретического построения очевидна для любого мало-мальски грамотного марксиста.
Фромм ошибается и в вопросах политической экономии. Описывая конец 19-го века, он говорит про финансовый капитал. Хочу напомнить, что финансовый капитал — это банковский капитал, сросшийся с промышленным. То есть, финансовый капитал появляется тогда, когда предприятие учреждает свой банк и оказывает с его помощью кредитные услуги, как это было с «Газпромом», либо наоборот, предприятие становится собственностью банка. В конце 19-го века банковская система только зарождалась и никакого финансового капитала быть не могло. При этом периодически Фромм конечно делает реверансы в сторону диалектики, что ни на грамм не изменяет сомнительного содержания его трудов.
2.Фрейдистский подход к истории
Пытаясь на словах примирить Маркса и Фрейда, Фромм на деле однозначно встаёт на сторону последнего. Фрейдизм можно рассматривать с двух точек зрения: прогрессивное направление в психологии и реакционная философия. Шагом вперёд было проведение сеансов общения с пациентами, как способ отыскать корень проблемы и излечить душевные травмы, а потому, откидывая внутренние спекулятивные построения, с пользой фрейдизма для медицины вполне можно согласиться. Но Фрейд пошёл дальше, пытаясь применить психоанализ к истории общества, и здесь его учение становится реакционной философией. Он рассматривает всю историю общества как простую сумму индивидов, без учёта социальных и экономических взаимоотношений, действующих между ними. Отсюда берёт начало восприятие Фрейдом религии как коллективного невроза и множество других несуразностей. Напротив, марксизм утверждает, что каждый человек живёт и действует в социуме, что накладывает на него определённый отпечаток. У рабочего отчуждаются результаты его труда, он ненавидит своё классовое положение, чувствует себя одиноким и беззащитным и т.д. То есть, марксизм утверждает, что классовое положение человека формирует страхи, привычки, комплексы. Фромм в этом вопросе, откланявшись Марксу, продвигал точку зрения Фрейда. Он не захотел увидеть за действиями тех или иных людей классовые первопричины, предпочтя им объяснение в виде недугов, садизма и прочего.
Кроме того, интересно и восприятие Фроммом идеологии и философии. Анализируя идеологию нацизма, он провозглашает её следствием лишь личностных черт Гитлера. То же самое и касательно протестантизма: он объявляет его прямым продолжением всех личностных недугов Лютера. С марксистской точки зрения каждая идеология и философия обслуживает интересы того или иного общественного класса, а личность выступает как его представитель. Напротив, Фромм не желает видеть, что объективные социальные условия порождают личность и продвигают её, а отводит ей самой роль первопричины. Отсюда же и неспособность увидеть реальную классовую сущность всех вооруженных конфликтов. Объявляя Первую мировую войну грабительской, мыслитель всё же рассматривает её как очередной акт коллективной агрессии, как проявления деструктивных импульсов. Следуя этим путём далее, Фромм провозглашает нацизм лишь суммой больных неврозом представителей ранее выведенного им среднего класса. То есть главный идеолог Франкфуртской школы на поверку просто дублирует фрейдистский подход к истории, как к сумме случайных событий.
Почему такой подход неприемлем для марксиста? Прежде всего, важно вспомнить его идеалистическое начало. Согласно фрейдовской теории, коренной причиной наших действий являются импульсы в голове у человека, в свою очередь проистекающие из двух главных человеческих стремлений: либидо — стремлении к сексу и мортидо — стремлении к разрушению и смерти. Из чего проистекают эти стремления, какие части нашего мозга за это отвечают и каково их назначение в эволюции? Эти вопросы Фрейд оставляет без ответа, ограничиваясь лишь до неприличия малосодержательными фразами об инстинктах. В сущности эти «импульсы» и «стремления» повисают в воздухе, не будучи обременёнными явным материальным содержанием. Следовательно, раз явной материальной первопричины нет, то остаётся только два источника: бог и бессознательная часть разума. В первом случае всё понятно и разъяснение об идеалистическом содержании не требуется, так как концепция бога как раз подразумевает наличие некоего высшего разума, ставшего причиной всего. Во втором же случае я дам небольшое пояснение. Если наш разум действует, исходя из импульсов, и в то же время сам их порождает, то выходит что первопричина действий, диктуемых разумом, лежит в нём самом, а следовательно, человек превращается в некое идеальное божество создающее свой разум и через разум создающее себя. То есть происходит становление всей концепции восприятия истории на идеалистические рельсы.
3.Человек и его качества
В зависимости от эпохи различные мыслители смотрели на человека и свойственные ему черты по-разному. Джон Локк, например, будучи английским идеалистом, заявлял, что каждый человек априори добр и миролюбив. Томас Гоббс, напротив, утверждал, что каждому человеку свойственна жадность и злоба, отсюда он выводил свою легендарную фразу «homo homini lumpus» — человек человеку волк. А раз человеку свойственна злоба и эгоизм, то значит необходимо и государство (Commonwealth), которое держало бы его в страхе и не давало совершать преступления. Марксисты же утверждают, что человек от природы не добр и не зол, но все свои качества приобретает по ходу жизни. Какую позицию по этому поводу занимает Фромм?
«Главный немецкий философ ХХ столетия» в этом вопросе впадает в полнейшую эклектику. В «Анатомии человеческой деструктивности» он описывает ритуальные обряды некоторых варварских племён, явно дающих понять, что в человеке стремление к насилию заложено издревле. После этого, пожонглировав фрейдовской категорией «мортидо», он приходит к тому, что человек зол, но, формулируя итоговый вывод всей работы, заключает, что всё-таки человек добр. В «Душе человека» Фромм делает вывод, что нам до всякого опыта свойственно стремление к насилию и злу. Кроме того, человек, по его мнению, оказывается одновременно и биофилом и некрофилом. Именно из априорных некрофильских черт человека он выводит причину военных преступлений со стороны СС. Увидев такие несостыковки, поневоле задумаешься об искренности воззрений Фромма.
Читая большинство его работ, вы, скорее всего, поймаете себя на мысли, что они все написаны поразительно схоже, и при этом одинаково не несут ничего ценного или нового. Апогеем является работа «Искусство быть», где описав на ста страницах, что жизнь трудна, следующие сто он, как приличный инфоцыган, посвятил рекомендациям по дыхательным техникам и личностному росту над своими экзистенциальными проблемами.
4.Практические руководства к действию от Эриха Фромма
Мы выяснили, что нам нужно глубоко подышать, но что же ещё нам следует сделать по мнению великого психоаналитика? С его точки зрения стоит преодолеть проблему личной нереализованности всех членов общества путём создания каждым своего собственного малого бизнеса, и не важно, что процесс монополизации является закономерным итогом развития капитализма. Помимо того, Фромм предлагает выбрать наиболее достойных представителей народа, которые могли бы выявлять актуальные проблемы современности и консультировать правительство касательно их решения.
Характеризуя работы Эриха Фромма, можно сказать — это нескончаемое нытьё об атомизации общества и одиночестве человека в странах капитализма, перебиваемое нытьём о его бесправии в странах социализма. На протяжении тысячи страниц Фромм с паническими нотками сетует на всепоглощающее человеческое безразличие друг к другу и ущемление человеческого индивидуализма, скатываясь порой в полнейшую шизофрению типа опасений о грядущем восстании машин. А в качестве решения предлагает классическую утопическую концепцию застывшего в развитии мелкобуржуазного социализма. Хотите понять Фромма? Не повторяйте моих ошибок, перечитывая все его труды. «Бегство от свободы», «Искусство любить», «Анатомия человеческой деструктивности» — более никакие его работы не заслуживают и малейшего внимания, а марксизм вы можете там даже не искать.